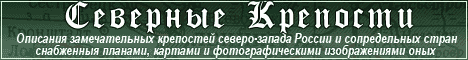Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| litregol |
 7.8.2012, 22:47 7.8.2012, 22:47
Сообщение
#1
|
 Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 4 109 Регистрация: 2.3.2007 Пользователь №: 155 Город: Каунас, Литва Военно-историческая группа (XIX): Л-Гв. Литовский полк Репутация:  64 64  |
Известная легенда
Цитата За успешные боевые действия он получает звание генерал-лейтенанта, награждается многими орденами и назначается командиром 21-й пехотной дивизией, а с началом Отечественной войны он уже командует 7-м пехотным корпусом, входящим во 2-ю Западную армию П.И.Багратиона. Летом 1812 года Багратион пытается прорвать фронт французов для соединения с 1-й армией. Он приказывает генералу Раевскому идти к Могилёву. А в это время против пятнадцати тысяч русских выступили двадцать шесть тысяч войск маршала Даву. Все попытки французов обойти отряд Раевского оставались безуспешными. В наиболее тяжёлый и казалось безвыходный момент боя у деревни Салтановка генерал Раевский взяв за руки своих двух сыновей, старшему из которых, Александру, едва исполнилось семнадцать лет и пошёл с ними в атаку. Героизм генерала и его детей подняли колонны русских. Неимоверными усилиями подразделений Раевскому удалось удержать позиции у Салтановки и дать возможность основным силам армии переправиться через Днепр у Быхова. Известная картина  но запустили в меня червяка сомнения -------------------- История - это всегда политика (ц)
Все, что вам нужно можно всегда обменять на то, что нужно мне |
  |
Ответов
| litregol |
 8.8.2012, 11:34 8.8.2012, 11:34
Сообщение
#2
|
 Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 4 109 Регистрация: 2.3.2007 Пользователь №: 155 Город: Каунас, Литва Военно-историческая группа (XIX): Л-Гв. Литовский полк Репутация:  64 64  |
Кошелев В.А. Батюшков. Странствия и страсти (глава пятая «Двенадцатый год»)
Цитата ВОИН БЕЗ ВОЙНЫ С юности для Батюшкова было характерно неприятие лжи и фальши окружающего общества во всех их проявлениях — в особенности же в отношении к войне. Подводя в 1817 году итоги своих военных впечатлений, он замечает в записной книжке «Чужое: мое сокровище!» (запись от 3 мая 1817 года): «Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13, 14 годов, видел и читал газеты и современные истории. Сколько лжи!» Чтение «современных историй» о прошедшей войне комментируется им иронической цитатой из Вольтера: «И вот как пишут историю!» «Ложь» в представлении Батюшкова становится емким понятием: это общая система воззрений на войну и на подвиги в войне. В качестве примера этой «лжи» Батюшков приводит «анекдот о Раевском», прославивший отважного генерала, у которого Батюшков позже был адъютантом. 23 июля 1812 года Н.Н.Раевский у деревни Салтановки Могилевской губернии героически атаковал корпус Даву, рвавшийся следом за уходившей армией Багратиона. Вот что писал об этом сражении советский историк Е.В.Тарле: «Когда в этой тяжкой битве среди мушкетеров на один миг под градом пуль произошло смятение, Раевский, как тогда говорили и писали, схватил за руки своих двух сыновей, и они втроем бросились вперед. Николай Николаевич Раевский был, как и его прямой начальник Багратион, любимцем солдат. Поведение под Дашковкой было для него обычным в тяжелые минуты боя»[18]. О стычке на Салтановской плотине действительно много «говорили и писали» в первые месяцы Отечественной войны, напирая особенно на то, что Раевский, как в свое время древние римляне, не пожалел во имя спасения отечества своих собственных детей... Красивая «картинка», которая действительно скоро стала «картинкой» — гравюрой, изображавшей генерала вместе с малолетними детьми (она была помещена под портретом Раевского). Раевский-«римлянин» попал и в стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов»: «Раевский, слава наших дней, Хвала! перед рядами Он первый грудь против мечей С отважными сынами». Касаясь этого эпизода в своей записной книжке, Батюшков выступает как мемуарист, передавая свой собственный разговор с Раевским, происшедший в 1813 году в Эльзасе. Раевский (в передаче Батюшкова) рассуждает о «карлах», сочиняющих небылицы о войне: «Из меня сделали римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, — из Милорадовича великого человека, из Витгенштейна спасителя отечества... Я не римлянин — но зато и эти господа — не великие птицы». И далее: «Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих». — «Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес превозносили». — «За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава! вот плоды трудов!» — «Но помилуйте, ваше высокопревосходительство! не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам путь ко славе», или что-то тому подобное». Раевский засмеялся: «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля прострелила ему панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Гравверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином». Многие исследователи до сих пор сомневаются в правдивости этой записи Батюшкова: высказывают соображения о том, что поэта подвела память или слишком разыгралось воображение; указывают на некоторую логическую несуразность объяснения Раевского: если пуля прострелила ребенку панталоны, значит, стрелок находился не слишком далеко (если учесть тогдашние гладкоствольные ружья), значит, что-то здесь не так... Всегда трудно расставаться с красивой «картинкой». Но вопрос здесь заключается не только в том, был или нет подвиг «римлянина» Раевского, но и в том, почему «анекдот о Раевском» возникает у Батюшкова именно в таком виде, а не иначе. Батюшков очень умело вводит этот диалог с Раевским в общий контекст своего отношения к войне. Его установка принципиально отличается от установки «гравверов, журналистов, нувеллистов»: он не ищет «героя», а оценивает обстановку глазами рядового участника событий, «простого ратника». Прежде чем передать этот диалог, Батюшков приводит теоретическое суждение, в котором дважды повторяется французская цитата: «И вот как пишут историю!», вспомнившаяся «машинально, почему — не знаю». Далее Батюшков ссылается на какую-то заметку в газете «Северная почта»: отсылка неверная, так как Л. Н. Майков, специально просматривавший эту газету, никакого «анекдота о Раевском» там не нашел. Личность Раевского подробно представляется именно в бытовом аспекте: Батюшков, например, вспоминает его «американскую собачку — животное самое гнусное, не тем бы вспомянуть его! — и которое мы, адъютанты, исподтишка били, и ласкали в присутствии генерала...». Сам разговор поначалу идет в таком же «сниженном» плане (он именуется даже «болтаньем»): «Садись», «Хочешь курить?» и т. п. Затем Батюшков специально подчеркивает, что Раевский его любил и часто был с ним откровенен, и дает краткую, но выразительную характеристику генерала: «Он вовсе не учен, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остер. Он засыпает и просыпается». Рассказ о случае под Дашковкой начинается с теоретической посылки («Из меня сделали римлянина...»), которая практически доказывается опровержением знаменитого «римского» поступка: современники увидели в подвиге Раевского не то, что было в действительности, а то, что им хотелось увидеть, и тем самым исказили истинную картину не только частного случая войны, но и войны в целом. Наконец, Батюшков дает обширное «противоположение», рассказывая «другой, не менее любопытный... анекдот о Раевском», которому он сам был свидетелем: поведение генерала во время Лейпцигского сражения. Характерно, что этот случай раскрывает тот же характер «римлянина», но с противоположным акцентом: никакой «красивости», никакого бессмысленного геройства, никакого «повторения» того типа отношений, которые были во времена Горациев и Куриациев. Отношение русского общества к подвигу Раевского стало как бы концентрированным выражением «романтического» отношения к войне. Одно из первых печатных упоминаний о детях Раевского появилось в десятом номере «Русского вестника» за 1812 год. Этот номер, спешно составленный С.Н.Глинкой, вышел в августе, за несколько дней до Бородина, в тот период, когда Батюшков приехал в Москву. Там, на страницах семьдесят девять — восемьдесят один помещено патриотическое стихотворение самого Глинки «Стихи генералу Раевскому». Сами стихи не представляют особенного интереса: они написаны в духе традиционного классицистического «поздравления», — но показательны два примечания к ним. Примечание первое: «Никогда, никогда Русское сердце не забудет слов Героя Раевского, который, с двумя юными своими сынами став впереди Русских воинов, вещал: «Вперед, ребята, за Веру и за Отечество! я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь». Примечание второе: «Рассказывают, что, когда полки генерала Докторова (!) пришли на смену утомленных воинов генерала Раевского, сии последние сказали: «Мы не устали; дайте нам биться; рады все умереть!» О знакомстве Батюшкова с этими примечаниями говорит хотя бы тот факт, что слова Раевского, приводимые Батюшковым, — это сокращенная цитата из того, что приводит С. Глинка. Характерной чертой «романтического» отношения к войне стала та идеологическая установка, которая отражена в примечаниях. В основе их — идея непременной «жертвы» и «жертвенности» за отечество, причем жертвенность эта принимается лишь в исторически отстоявшейся форме античной, вненациональной «жертвенности» (вроде подвига Муция Сцеволы, сжегшего на огне свою руку, или трехсот спартанцев в битве при Фермопилах). Сама постановка вопроса при этом заостряется: война и интересы родины изменяют для Глинки привычные этические представления: «дитя» становится «жертвой»; отец, приносящийв жертву дитя, — «Героем» (в отличие от библейского Авраама); «смерть» оказывается «радостью». «Простой ратник» Батюшков протестует именно против этого представления о том, что война находится вне привычной этики. Чувство фронтовика, прошедшего уже через две войны и через тяжелое ранение, не позволяет ему принять ни самого этого «анекдота о Раевском», ни его толкований. Он ощущает в приводимых Глинкой «вещаниях» Раевского и его солдат нарушение жизненной правды. Примечания С. Глинки — вовсе не единичный пример. Вот хотя бы «анекдот» Гавриила Геракова (напечатанный в «Сыне Отечества»), который также имеет отношение к событиям на Салтановской плотине: «N. N. при Салтановке» Кому не известен Кинигир, тот грек, который бросился с берега, чтоб остановить персидскую галеру, схватя оную рукою; руку отрубили, он схватил другою, отрубили и сию, он схватил зубами, и тут лишился и головы? — Читая о Кинигире, конечно, удивляешься подвигу его; но полтавского полку унтер-офицер N. N. более трогает мою душу. У него в жарком сражении при Салтановке оторвало ядром руку; он вышел из сражения, держа другою оторванную. Проходя мимо князя Багратиона и став во фрунт, сказал: «Здравия желаю, Ваше Сиятельство!» Когда же стали у него вынимать руку из плеча, он охнул — лекарь упрекнул ему за сие. Унтер-офицер отвечал: «Не думаете ли вы, что я охаю о руке или от нетерпимой боли? Отрежьте другую, я не поморщусь; но я охаю о России, о моей родимой стороне, и что не могу более, надолго, служить моему государю»[19]. В приведенном «анекдоте» эти ложные идеологические установки проступают еще явственнее. Для Геракова важен не подвиг, совершенный унтер-офицером (никакого особенного подвига тот, в сущности, не совершил), а его выспренние слова, которыми он выражает готовность отрезать другую руку. Тут же — непременная «театрализация» и аналогия с античностью, предписывающей сегодняшнее величие русского воинства. Конструкция анекдота-мифа представлена здесь в ее схематическом, ничем не осложненном виде. Подобные же примеры вторжения искусства и искусственности в реальное бытие людей начала XIX века, — и прежде всего примеры «античного» осмысления Отечественной войны ее участниками, — привел Ю. М. Лотман [20] . Этот же исследователь замечает, «что дезавуированная самим Раевским легенда отнюдь не была чужда его реальному поведению и, видимо, совсем не случайно возникла», хотя и была «закодирована» в соответствии с особенностями «самосознанияэпохи» [21] . Но к чему же тогда Раевскому было эту легенду «дезавуировать»? Тем более что сам он, как видно из рапорта его Багратиону об этом сражении, вовсе не был чужд исторических ощущений «римлянина»: «...я и сам свидетель, как многие штаб-, обер- и унтер-офицеры, получа по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир»[22]. Это самосознание «римлянина» видно и из письма генерала к сестре жены: «Вы, верно, слышали о страшном деле, бывшем у меня с маршалом Даву и Лефебром; с десятью тысячами против шестидесяти мы успели выйти из дела с честью, тогда как неприятель потерял втрое больше нашего... Сын мой Александр выказал себя молодцом, а Николай, даже во время самого сильного огня, беспрестанно шутил; этому пуля прорвала брюки; оба сына повышены чином»[23]. Ведь этот эпизод стал семейной гордостью Раевских и был закреплен авторитетом Пушкина и М. Н. Волконской[24]. Этот авторитет, по замечанию А. Кривицкого, не поколебало и приведенное выше свидетельство Батюшкова[25]: для массовой национальной памяти «анекдот о Раевском» оказался необходим не как миф, а как непреложная героическая реальность. Так что дело здесь не в «кодированном» поведении Раевского, а в восприятии самого Батюшкова, талантливого поэта и бывалого воина, который именно благодаря счастливому сочетанию двух этих ипостасей сумел отнестись к войне по-иному, чем большинство современников, и понять ее без театральности и позы — во всей страшной ее правде. И в этом отношении Батюшков оказался очень близок позднейшему восприятию Льва Толстого. Автор «Войны и мира» не знал свидетельства Батюшкова (записная книжка «Чужое: мое сокровище!» была впервые опубликована в 1885 году, через шестнадцать лет после «Войны и мира»), но его комментарий «анекдота о Раевском», вложенный в уста «простого ратника» Николая Ростова (т. III, ч. I, гл. XII), служит ярким дополнением к рассуждениям Батюшкова. Некий офицер рассказывает при Николае Ростове о том, что на Салтановской плотине Раевский совершил «поступок, достойный древности». Ростов молча возражает ему: «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять... Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика постарался бы поставить куда-нибудь под защиту». В черновых набросках Толстой прямо называет «анекдот о Раевском» — «фарсом». И добавляет: «Лгание Муция Сцеволы до сих пор не обличено»[26]. Но характерно и то, что Николай Ростов «не сказал своих мыслей»: «Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем». Батюшков тоже фактически «смолчал»: приведенные выше строки остались лишь в составе интимной записной книжки. «Смолчал» об этом эпизоде и Д.В.Давыдов, который в «Замечаниях на некрологию Раевского» (1832) подробно описал бой под Дашковкой, но ни словом не упомянул о сыновьях Раевского. Батюшков уже в самом начале войны иначе представлял ее, иначе, чем большинство современников, и по-новому относился к войне. Война для него — это не ряд красивых подвигов и благородных смертей. Это собрание жестокостей, представляющих в целом весьма уродливую картину. Поэтому ни в одном из последующих своих произведений он не восхваляет ни воинских доблестей, ни отдельных подвигов. Цитата К 1821 году ипохондрия стала столь значительной, что поэт был вынужден оставить службу и Италию. В 1822 году расстройство умственных способностей выразилось вполне определённо, и с тех пор Батюшков в течение 34 лет мучился, не приходя почти никогда в сознание, и наконец скончался от тифа 7 июля 1855 года в Вологде; похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре, в пяти верстах от Вологды. Ещё в 1815 году Батюшков писал Жуковскому о себе следующие слова: «С рождения я имел на душе чёрное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю душу». Цитата ИПОХОНДРИЯ, или ипохондрический невроз, состояние повышенной фиксации внимания на проблемах собственного здоровья, характеризующееся полной убежденностью человека в наличии у него серьезного заболевания, основанной на каких-либо соматических (телесных) симптомах или физических проявлениях, которые на самом деле не являются признаками заболевания. Уверенность в наличии серьезной болезни обычно сопровождается чрезмерной озабоченностью и страхом. Любые попытки разубедить человека тщетны и не смягчают тревогу или страх, а зачастую приводят к продолжению поисков медицинского диагноза и лечения. Озабоченность, как правило, в большей степени вызывают физиологические функции, чем собственно симптомы. Сердцебиение, потоотделение, дыхание проверяются ежеминутно – не изменился ли ритм, нет ли необычных ощущений; любое отклонение от нормы немедленно воспринимается как подтверждение болезни. Даже медицинские данные в форме отрицательных результатов диагностических исследований обычно не разубеждают пациента. Он, если и признает с неохотой, что болезни нет, а симптомы, возможно, преувеличены, тем не менее продолжает «ходить по врачам». -------------------- История - это всегда политика (ц)
Все, что вам нужно можно всегда обменять на то, что нужно мне |
Сообщений в этой теме
 litregol Раевский под Салтановкой 7.8.2012, 22:47
litregol Раевский под Салтановкой 7.8.2012, 22:47
 Др. Александр От этой легенды Раевский еще при жизни открещивалс... 7.8.2012, 22:49
Др. Александр От этой легенды Раевский еще при жизни открещивалс... 7.8.2012, 22:49

 litregol
От этой легенды Раевский еще при жизни открещивал... 7.8.2012, 22:51
litregol
От этой легенды Раевский еще при жизни открещивал... 7.8.2012, 22:51
 Борис Около месяца назад на форуме обсуждали ролики теле... 7.8.2012, 22:54
Борис Около месяца назад на форуме обсуждали ролики теле... 7.8.2012, 22:54

 litregol
Около месяца назад на форуме обсуждали ролики тел... 7.8.2012, 22:55
litregol
Около месяца назад на форуме обсуждали ролики тел... 7.8.2012, 22:55


 Борис
в каком разделе форума искать то?
Проще искать п... 7.8.2012, 22:57
Борис
в каком разделе форума искать то?
Проще искать п... 7.8.2012, 22:57


 litregol
Проще искать по всем разделам по ключевому сорву ... 7.8.2012, 23:21
litregol
Проще искать по всем разделам по ключевому сорву ... 7.8.2012, 23:21

 sgt Marchand
Около месяца назад на форуме обсуждали ролики тел... 8.8.2012, 0:03
sgt Marchand
Около месяца назад на форуме обсуждали ролики тел... 8.8.2012, 0:03

 litregol
По второму кругу ругаться будем? :sm39:
почему... 8.8.2012, 0:07
litregol
По второму кругу ругаться будем? :sm39:
почему... 8.8.2012, 0:07
 litregol Александр Николаевич Раевский
http://i080.radikal... 8.8.2012, 0:00
litregol Александр Николаевич Раевский
http://i080.radikal... 8.8.2012, 0:00

 швед
Интересно, а существует полковая история 5-го еге... 8.8.2012, 0:04
швед
Интересно, а существует полковая история 5-го еге... 8.8.2012, 0:04
 litregol RE: Раевский под Салтановкой 8.8.2012, 0:35
litregol RE: Раевский под Салтановкой 8.8.2012, 0:35
 litregol http://s43.radikal.ru/i101/1208/45/0c4d73db4953.jp... 8.8.2012, 1:10
litregol http://s43.radikal.ru/i101/1208/45/0c4d73db4953.jp... 8.8.2012, 1:10
 litregol Русское кладбище в Нице.
http://www.elisanet.fi/... 8.8.2012, 7:08
litregol Русское кладбище в Нице.
http://www.elisanet.fi/... 8.8.2012, 7:08
 litregol
http://www.rodniva.by/content/istorija-rja...ev... 8.8.2012, 7:24
litregol
http://www.rodniva.by/content/istorija-rja...ev... 8.8.2012, 7:24
 litregol
http://s52.radikal.ru/i135/1208/6f/090b184836c2... 8.8.2012, 7:41
litregol
http://s52.radikal.ru/i135/1208/6f/090b184836c2... 8.8.2012, 7:41
 litregol
http://s018.radikal.ru/i509/1208/c9/bf5100d3367a... 8.8.2012, 8:02
litregol
http://s018.radikal.ru/i509/1208/c9/bf5100d3367a... 8.8.2012, 8:02
 litregol
http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=0a5bbf93...e8... 8.8.2012, 8:42
litregol
http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=0a5bbf93...e8... 8.8.2012, 8:42
 litregol Василий Жуковский
Певец во стане русских воинов
... 8.8.2012, 9:23
litregol Василий Жуковский
Певец во стане русских воинов
... 8.8.2012, 9:23
 litregol Генерал Раевский и сыновья
Из комментария к одной ... 8.8.2012, 9:52
litregol Генерал Раевский и сыновья
Из комментария к одной ... 8.8.2012, 9:52
 litregol RE: Раевский под Салтановкой 8.8.2012, 11:57
litregol RE: Раевский под Салтановкой 8.8.2012, 11:57
 litregol http://s005.radikal.ru/i211/1208/76/2c13f2dbd78b.j... 8.8.2012, 12:30
litregol http://s005.radikal.ru/i211/1208/76/2c13f2dbd78b.j... 8.8.2012, 12:30
 Нижегородец Собственно, всё разъясняет написанное по горячим с... 8.8.2012, 13:28
Нижегородец Собственно, всё разъясняет написанное по горячим с... 8.8.2012, 13:28  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
 |
|||||

|
Текстовая версия |
|
Сейчас: 19.11.2024, 7:41 | ||